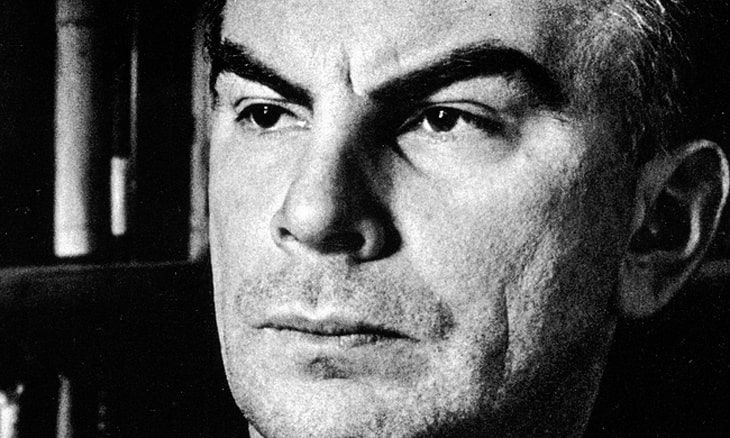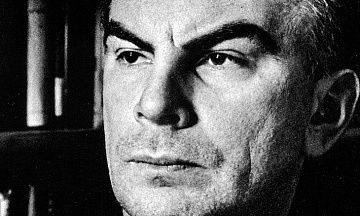Хан-Тенгри
Историко-культурный и общественно-политический журнал
Проблемы и перспективы евразийской интеграции
Владимир Луговской. Алайский рынок
О великом русском писателе Юрии Домбровском, воспевшем довоенный Зелёный рынок тогдашней Алма-Аты, мы писали в прошлом году. Как выяснилось, Домбровского помнят и любят (а кто б сомневался): публикация, набрав под двести репостов, разлетелась по просторам Рунета.
Подробнее: Человек, написавший Алма-Ату. Памяти Юрия Домбровского (ia-centr.ru)
Сегодня поговорим о человеке, написавшего о ташкентском Алайском рынке времён войны – той ещё войны, Великой Отечественной. Стихотворение, размерами своими тянущее на поэму, так и называется: «Алайский рынок». Об авторе его с уважением и восторгом пишут виднейшие современные писатели: «патриот» Захар Прилепин, признанный «иностранным агентом» Дмитрий Быков, трехкратный лауреат премии «Большая книга» Леонид Юзефович и небесный (теперь уже во всех смыслах, увы), месяц назад ушедший от нас Андрей Левкин.
Резюмируя отклики, можно констатировать: Владимир Луговской – а речь пойдёт о нём – безусловно входит в десятку крупнейших русских поэтов ХХ века.
Это, согласитесь, очень немало.
И удивительно тоже очень. Потому что в великой плеяде крупнейших русских поэтов ХХ века имя Владимира Луговского звучит глуше всех. Его нет в школах. Его нет даже во многих гуманитарных вузах. Его позволительно не знать людям, считающим себя сведущими в русской литературе. Он как поплавок – порой уходит на глубину, но упорно выскакивает на поверхность.
И вот сейчас, прямо на наших глазах, выскакивает в очередной раз.
До начала войны Владимир Луговской считался самым таким боевитым и молодцеватым из советских писателей и поэтов – хотя, в отличие от Н. Тихонова и М. Зощенко, нюхнувших газу ещё в Первую мировую, и от многих своих товарищей и сверстников, реально воевавших на фронтах Гражданской войны, боевой опыт Луговского исчерпывался краткосрочной службой в Полевом контроле Западного фронта, прерванной тифом, и стычками с басмачами в республиках Средней Азии. Там Луговской был на коне, экзотика Туркестана и яростный ритм погонь вполне ему соответствовали. Такой же была его поэзия – яростная, в рваных песенных ритмах, обрубаемых лаконичными сводками военных депеш и восклицательными знаками армейских команд. Его знаменитой «Песнью о ветре» зачитывалась вся страна, она звучала по радио, с эстрадных подмостков, на школьных и институтских вечерах:
Итак, начинается песня о ветре,
О ветре, обутом в солдатские гетры,
О гетрах, идущих дорогой войны,
О войнах, которым стихи не нужны...
Сам Владимир Александрович был красив и импозантен ну просто чрезмерно: двухметровый рост, гвардейская осанка, чеканный профиль, голос оперного певца и роскошные брови («бровеносец советской поэзии»). В биографическом очерке Захара Прилепина приводится свидетельство совсем тогда ещё юного Александра Межирова: «Он стоял на сцене, высокий и сильный. Неслыханно красивый. С гордой головой. Весь “слажен из одного куска”. И в четверть прекрасного голоса (настоящая октава) свободно читал великую поэму войн и революций “Песню о ветре”. В зале стояла тишина, как при сотворении мира». И далее: «Няня сказала мне: красиво поёт. Наверное, из храма перешёл».

За внушительность и наглядность Луговской пользовался снисходительностью большого начальства. В 1930-м году на крейсере «Червона Украина» обошел Средиземное море: Стамбул, Пирей, Неаполь, Палермо. Присутствовал на знаменитой встрече советских писателей с товарищем Сталиным в особняке Рябушинского/Горького на Малой Никитской. Вместе с Александром Безыменским, Ильёй Сельвинским и Семёном Кирсановым представлял советскую поэзию в Париже и Лондоне. Был награждён орденом «Знак Почёта». В сентябре 39-го года, через неделю после нападения Германии на Польшу, получает очередное воинское звание – интендант 1-го ранга. Три шпалы, как у полковника. (Немедленно справил себе новое обмундирование и, весь перетянутый молниями ремней, производил фурор на улицах Москвы.) Был командирован в Смоленск, в штаб Западной группировки войск, где вместе с Евгением Долматовским в один присест сочинили строевую песню, с которой советские войска пошли возвращать западные пределы Украины и Белоруссии: «Белоруссия родная, Украина золотая, / Ваши светлые границы мы штыками оградим, / Наша армия могуча, мы развеем злую тучу, / Наших братьев зарубежных мы врагу не отдадим» - да, это он. И кантата Александра Прокофьева из кинофильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» – «Вставайте, люди русские, на славный бой, на смертный бой...» – тоже на слова Луговского.
Вот что ещё нужно обязательно досказать, прежде чем мы очухаемся на Алайском рынке в Ташкенте.
Начиная с середины 30-х, Владимир Луговской вёл поэтический семинар в Литературном институте. И не просто семинар, а самый успешный семинар за всю историю сего достославного учреждения. Судите сами – учениками Луговского были Константин Симонов, Евгений Долматовский, Михаил Матусовский, Михаил Луконин, Сергей Наровчатов, Маргарита Алигер, Лев Озеров, Евгения Ласкина... Для них он был просто «дядей Володей». Константин Симонов свидетельствует: «Мы любили его, потому что он любил нас».
В 1938-ом году, когда все они ходили как по лезвию бритвы, он половину своего семинара вывозит в Баку и усаживает любимых учеников за переводы азербайджанской поэзии. Усаживает чуть ли не под замок, не разрешая выходить из гостиницы. Так «дяде Володе» было спокойнее – и за себя, и за учеников.
И вот – начало войны. В первую же неделю Луговской уходит на фронт, садится в воинский эшелон и, не доезжая до Пскова, попадает под мощный, как теперь говорят, прилёт – под страшную авиабомбёжку. Эшелон идёт под откос, горы трупов, скрученное железо, из-под дымящихся завалов выбирается разгромленный сорокалетний старик, в котором с трудом можно признать знаменитого кавалергарда-поэта. Кончился кавалергард Луговской. И – хоть бы одна царапина! Так, легкая контузия. Плюс тяжелейшее нервное потрясение. И – паралич воли.
Сломали кавалергарда.
Он возвращается в Москву, в знаменитый писательский дом в Лаврушинском переулке – никакой и никто. Подволакивающий ногу, с дрожащими руками, со старческой одышкой. При виде такого Володеньки мать, Ольга Михайловна, заболевает – рак и деменция одновременно. Луговской пускается во все тяжкие, начинает много и безобразно пить с кем попало, даже с давним недругом Валентином Катаевым. Его по-быстрому комиссовали – возможно, с подачи друга Фадеева. А в октябре 1941-го года Луговских всей семьёй – с сестрой и больной матерью – эвакуируют в Ташкент.
В Ташкенте – Ахматова, Алексей Толстой, Чуковский, Фаина Раневская, Всеволод Иванов, Надежда Яковлевна Мандельштам... Всех не перечислить. Луговских заселили на первом этаже двухэтажного домика по улице Жуковского, 54. На втором этаже жила Елена Сергеевна Булгакова с сыном.
Пожираемая раком мать стонала круглые сутки. Луговской круглые сутки пил. Быстро пропил все семейные ценности – а их у Луговских было. Побирался на Алайском рынке – за водку и закуску читал в шалманах свои стихи. Урус дервиш. Местные скоро перестали подавать, зато – пользовался большим успехом среди командировочных с фронта. Орден не пропивал – орден повышал статус и объём подаяний.
Эвакуированные литераторы перестали замечать Луговского. «Луговской пошёл в арык». Одна Ахматова с достоинством возражала: он поэт, ему можно как угодно, поэту простительно.
Вот мы и доехали до Алайского рынка. Он и сейчас существует, но в сильно приглаженном, не сказать выхолощенном виде. А в годы войны рынки были средоточием городской жизни (и смерти тоже). Сюда несли драгоценности, антиквариат, одежду – и уходили с едой. Калеки отрабатывали как могли: сводничали, пели, гадали по картам или рукам, напёрстничали, штопали носки, латали обувку, чистили сапоги, подбирали навоз – в общем, конкурентов хватало. За украденную лепёшку – ну, это в основном мальчишки-беспризорники – забивали ногами иногда до смерти.
В шалманах готовили плов, жарили шашлыки, наливали водку. Перед офицерами с фронта, с их-то тогдашними жалованием и аурой, расстилались с небескорыстной азиатской почтительностью.

Человек потерпел поражение и опустился на дно. Для той настоящей, страшной войны, к которой он себя готовил всю жизнь, поэт оказался слишком хрупок. Формально к нему претензий быть не могло – комиссован вчистую – но оправдывать себя Луговской не собирался. Среди чистой публики, среди эвакуированных литераторов ему места не было. Место его было – здесь, на Алайском рынке. Здесь, на южном базаре, на каменной приступочке у двери, он стал свободен последней безнадежной свободой, за которой нет уже ничего. Урус дервиш.
Но есть на свете, на Алайском рынке
Одна приступочка, одна ступенька,
Где я сижу, и от нее по свету
На целый мир расходятся лучи.
Читайте, читайте это страшное стихотворение. Чтобы понять меру его боли, его беспощадности к самому себе в свете последнего, окончательного прозрения – читайте. Мы помещаем его ниже, сразу после редакторского предисловия.
Но мы ещё не всё дорассказали. Ещё не всё.
Этого стихотворения не было бы вовсе, если бы Луговской остался на дне. Со дна можно пускать пузыри, а стихи такой пронзительной силы и ясности на дне писать невозможно.
Андрей Левкин подмечает: «Речь именно о выпадении, а не о принятой на себя маргинальности — та остается в общей рамке, только в крайней позиции. Тут не о проклятых поэтах, бедных, гонимых, ворах-разбойниках, юродивых, сверхэстетах и непризнанных страдальцах: все это вполне социальные функции, предполагающие зрителя. Здесь все роли прекращены: присутствие в форме отсутствия, что ли. Причем, тут описания самой позиции мало, ее надо создать и письмом: не в варианте воспоминаний про то, как с автором однажды было во-о-от такое, а изнутри, находясь там — производя это «там» еще и письмом: без письма бы оно не возникло».
7 апреля 1942-го года отмучалась и ушла на небеса Ольга Михайловна, мать поэта. Его любимая мама, в молодости – прекрасная оперная певица. Хозяйка большой уютной квартиры на Волхонке. Отец Ольги Михайловны был настоятелем церкви Симеона Столпника на Поварской, муж (отец Владимира) преподавал литературу в Первой мужской гимназии, в доме напротив храма Христа Спасителя. Там, в другом мире, супруг как-то слёг после инфаркта почти на год – и она, Ольга Михайловна, поскребла по сусекам и купила картину Алексея Саврасова «Грачи прилетели». Узрев любимую картину на стене собственной комнаты, отец сел, заплакал от счастья – и воскрес.
Ничего подобного Луговской не мог сделать для мамы в Ташкенте 42-го года. Единственное, что он мог сделать – воскреснуть самому. И в тот же день, в день смерти Ольги Михайловны, он бросил пить.
Бросил пить, стал потихоньку, а потом уже и не потихоньку писать. И написал в Ташкенте, по оценке всё того же Захара Прилепина, «одну из самых лучших поэтических книг за всю историю русской поэзии. Позже эта книга будет названа «Середина века».
Так считает Захар Прилепин, так считает Леонид Юзефович – и тут, ничего не поделаешь, мы с ними полностью солидарны.
Но поэму «Алайский рынок», при всём при этом – ставим на первое место.
Её просто не с чем сравнить.
Владимир Луговской.
Алайский рынок
Три дня сижу я на Алайском рынке,
На каменной приступочке у двери
В какую-то холодную артель.
Мне, собственно, здесь ничего не нужно,
Мне это место так же ненавистно,
Как всякое другое место в мире,
И даже есть хорошая приятность
От голосов и выкриков базарных,
От беготни и толкотни унылой…
Здесь столько горя, что оно ничтожно,
Здесь столько масла, что оно всесильно.
Молочнолицый, толстобрюхий мальчик
Спокойно умирает на виду.
Идут верблюды с тощими горбами,
Стрекочут белорусские еврейки,
Узбеки разговаривают тихо.
О, сонный разворот ташкентских дней!..
Эвакуация, поляки в желтых бутсах,
Ночной приезд военных академий,
Трагические сводки по утрам,
Плеск арыков и тополиный лепет,
Тепло, тепло, усталое тепло…
Я пьян с утра, а может быть, и раньше…
Пошли дожди, и очень равнодушно
Сырая глина со стены сползает.
Во мне, как танцовщица, пляшет злоба,
То ручкою взмахнет, то дрыгнет ножкой,
То улыбнется темному портрету
В широких дырах удивленных ртов.
В балетной юбочке она светло порхает,
А скрипочки под палочкой поют.
Какое счастье на Алайском рынке!
Сидишь, сидишь и смотришь ненасытно
На горемычные пустые лица
С тяжелой ненавистью и тревогой,
На сумочки московских маникюрш.
Отребье это всем теперь известно,
Но с первозданной юной, свежей силой
Оно входило в сердце, как истома.
Подайте, ради бога.
Я сижу
На маленьких ступеньках.
Понемногу
Рождается холодный, хищный привкус
Циничной этой дребедени.
Я,
Как флюгерок, вращаюсь.
Я канючу.
Я радуюсь, печалюсь, возвращаюсь
К старинным темам лжи и подхалимства
И поднимаюсь, как орел тянь-шаньский,
В большие области снегов и ледников,
Откуда есть одно движенье вниз,
На юг, на Индию, через Памир.
Вот я сижу, слюнявлю черный палец,
Поигрываю пуговицей черной,
Так, никчемушник, вроде отщепенца.
А над Алайским мартовским базаром
Царит холодный золотой простор.
Сижу на камне, мерно отгибаюсь.
Холодное, пустое красноречье
Во мне еще играет, как бывало.
Тоскливый полдень.
Кубометры свеклы,
Коричневые голые лодыжки
И запах перца, сна и нечистот.
Мне тоже спать бы, сон увидеть крепкий,
Вторую жизнь и третью жизнь, — и после,
Над шорохом морковок остроносых,
Над непонятной круглой песней лука
Сказать о том, что я хочу покоя, —
Лишь отдыха, лишь маленького счастья
Сидеть, откинувшись, лишь нетерпенья
Скорей покончить с этими рябыми
Дневными спекулянтами.
А ночью
Поднимутся ночные спекулянты,
И так опять все сызнова пойдет, —
Прыщавый мир кустарного соседа
Со всеми примусами, с поволокой
Очей жены и пяточками деток,
Которые играют тут, вот тут,
На каменных ступеньках возле дома.
Здесь я сижу. Здесь царство проходимца.
Три дня я пил и пировал в шашлычных,
И лейтенанты, глядя на червивый
Изгиб бровей, на орден — «Знак Почета»,
На желтый галстук, светлый дар Парижа, —
Мне подавали кружки с темным зельем,
Шумели, надрываясь, тосковали
И вспоминали: неужели он
Когда-то выступал в армейских клубах,
В ночных ДК — какой, однако, случай!
По русскому обычаю большому,
Пропойце нужно дать слепую кружку
И поддержать за локоть: «Помню вас…»
Я тоже помнил вас, я поднимался,
Как дым от трубки, на широкой сцене.
Махал руками, поводил плечами,
Заигрывал с передним темным рядом,
Где изредка просвечивали зубы
Хорошеньких девиц широконоздрых.
Как говорил я! Как я говорил!
Кокетничая, поддавая басом,
Разметывая брови, разводя
Холодные от нетерпенья руки,
Поскольку мне хотелось лишь покоя,
Поскольку я хотел сухой кровати,
Но жар и молодость летели из партера,
И я качался, вился, как дымок,
Как медленный дымок усталой трубки.
Подайте, ради бога.
Я сижу,
Поигрывая бровью величавой,
И если правду вам сказать, друзья,
Мне, как бывало, ничего не надо.
Мне дали зренье — очень благодарен.
Мне дали слух — и это очень важно.
Мне дали руки, ноги — ну, спасибо.
Какое счастье! Рынок и простор.
Вздымаются литые груды мяса,
Лежит чеснок, как рыжие сердечки.
Весь этот гомон жестяной и жаркий
Ко мне приносит только пустоту.
Но каждое движение и оклик,
Но каждое качанье черных бедер
В тугой вискозе и чулках колючих
Во мне рождает злое нетерпенье
Последней ловли.
Я хочу сожрать
Все, что лежит на плоскости.
Я слышу
Движенье животов.
Я говорю
На языке жиров и сухожилий.
Такого униженья не видали
Ни люди, ни зверюги.
Я один
Еще играю на крапленых картах.
И вот подошвы отстают, темнеют
Углы воротничков, и никого,
Кто мог бы поддержать меня, и ночи
Совсем пустые на Алайском рынке.
А мне заснуть, а мне кусочек сна,
А мне бы справедливость — и довольно.
Но нету справедливости.
Слепой —
Протягиваю в ночь сухие руки
И верю только в будущее.
Ночью
Все будет изменяться.
Поутру
Все будет становиться.
Гроб дощатый
Пойдет, как яхта, на Алайском рынке,
Поигрывая пятками в носочках,
Поскрипывая костью лучевой.
Так ненавидеть, как пришлось поэту,
Я не советую читателям прискорбным.
Что мне сказать? Я только холод века,
А ложь — мое седое острие.
Подайте, ради бога.
И над миром
Опять восходит нищий и прохожий,
Касаясь лбом бензиновых колонок,
Дредноуты пуская по морям,
Все разрушая, поднимая в воздух,
От человечьей мощи заикаясь.
Но есть на свете, на Алайском рынке
Одна приступочка, одна ступенька,
Где я сижу, и от нее по свету
На целый мир расходятся лучи.
Подайте, ради бога, ради правды,
Хоть правда, где она?.. А бог в пеленках.
Подайте, ради бога, ради правды,
Пока ступеньки не сожмут меня.
Я наслаждаюсь горьким духом жира,
Я упиваюсь запахом моркови,
Я удивляюсь дряни кишмишовой,
А удивленье — вот цена вдвойне.
Ну, насладись, остановись, помедли
На каменных обточенных ступеньках,
Среди мангалов и детей ревущих,
По-своему, по-царски насладись!
Друзья ходили? — Да, друзья ходили.
Девчонки пели? — Да, девчонки пели.
Коньяк кололся? — Да, коньяк кололся.
Сижу холодный на Алайском рынке
И меры поднадзорности не знаю.
И очень точно, очень непостыдно
Восходит в небе первая звезда.
Моя надежда — только в отрицанье.
Как завтра я унижусь — непонятно.
Остыли и обветрились ступеньки
Ночного дома на Алайском рынке,
Замолкли дети, не поет капуста,
Хвостатые мелькают огоньки.
Вечерняя звезда стоит над миром,
Вечерний поднимается дымок.
Зачем еще плутать и хныкать ночью,
Зачем искать любви и благодушья,
Зачем искать порядочности в небе,
Где тот же строгий распорядок звезд?
Пошевелить губами очень трудно,
Хоть для того, чтобы послать, как должно,
К такой-то матери все мирозданье
И синие киоски по углам.
Какое счастье на Алайском рынке,
Когда шумят и плещут тополя!
Чужая жизнь — она всегда счастлива,
Чужая смерть — она всегда случайность.
А мне бы только в кепке отсыревшей
Качаться, прислонившись у стены.
Хозяйка варит вермишель в кастрюле,
Хозяин наливается зубровкой,
А деточки ложатся по углам.
Идти домой? Не знаю вовсе дома…
Оделись грязью башмаки сырые.
Во мне, как балерина, пляшет злоба,
Поводит ручкой, кружит пируэты.
Холодными, бесстыдными глазами
Смотрю на все, подтягивая пояс.
Эх, сосчитаться бы со всеми вами!
Да силы нет и нетерпенья нет,
Лишь остаются сжатыми колени,
Поджатый рот, закушенные губы,
Зияющие зубы, на которых,
Как сон, лежит вечерняя звезда.
Я самолюбием, как черт, кичился,
Падения боялся, рвал постромки,
Разбрасывал и предавал друзей,
И вдруг пришло спокойствие ночное,
Как в детстве, на болоте ярославском,
Когда кувшинки желтые кружились
И ведьмы стыли от ночной росы…
И ничего мне, собственно, не надо,
Лишь видеть, видеть, видеть, видеть,
И слышать, слышать, слышать, слышать,
И сознавать, что даст по шее дворник
И подмигнет вечерняя звезда.
Опять приходит легкая свобода.
Горят коптилки в чужестранных окнах.
И если есть на свете справедливость,
То эта справедливость — только я.