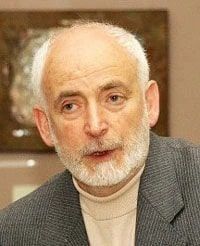Хан-Тенгри
Историко-культурный и общественно-политический журнал
Проблемы и перспективы евразийской интеграции
Семён Заславский. О Гитовиче – человеке, поэте и переводчике.
Дочери Полине.
1.
Небывалым счастьем для меня в молодые мои годы (я тогда только окончил школу) была встреча с человеком, подарившем мир китайской поэзии миллионам читателей, говорящих на русском языке.
…Водоворот ленинградской литературной богемы в середине 60-х прошлого века. Яркие, безусловно одарённые Бродский, Горбовский, Соснора. Самовлюблённо, нараспев, с надрывом читают они свои стихи.
На квартире у Тани Родиной впервые слышу рыжего Бродского. Поражает его искусство и в тоже время кажется слишком уж искусственным, дышит космическим холодом. Вот он закатывает глаза и выкрикивает в истерике:
Этот буфет извне
Также, как изнутри,
Напоминает мне
Нотр-Дам де Пари.
Все тогда быстро знакомились друг с другом, кто-то пил кофе или водку, но почти все, известные и неизвестные – словоблудили. Правда, был в той компании Гриша Аронзон. Гриша через несколько лет после того вечера неожиданно для всех застрелился из охотничьего ружья в горах Тянь-Шаня. Гриша читал свои стихи чуть ли не шёпотом и какими-то своими чертами напоминал образ Хлебникова. Его антиподом был Константин Кузьминский – грязный, пьяный хам по отнощению к дамам. Жирным, грубым голосом он читал, подвывая: «Чует Кучум чум», и мне казалось, что где-то я уже слышал нечто подобное, что эту строчку он украл у Вознесенского. Но Кузьминский не только читал свои стихи, он с каким-то самонаслаждением онаниста находил радость в поношении Вознесенского, Евтушенко, всего, как он говорил, Совдепа. Он утверждал и доказывал причастность всех членов Союза Писателей СССР к агентуре КГБ – все стучат и пишут доносы именно на него, Кузьминского.
«Успокойся, Кока», говорил ему тогда Давид Яковлевич Дар. И добавлял: «Видишь, ты сам себя напугал, даже побледнел от страха. Успокойся, Кока, не нужен ты никакому КГБ с твоими комплексами, выпей вина, отдохни».
Так говорил Кузьминскому Давид Дар со своей неизменной трубкой, полной пахучего табака. Давид Дар, писатель, муж знаменитой когда-то Веры Пановой, но на то время уже вдовец. Это о нём злой Кока Кузьминский написал столь едкий стишок:
Я б хотел быть Даром,
Получая даром
Каждый раз по новой
Гонорар Пановой.
Сильно написал Кока, и не так про Дара, как про самого себя, про свою сладкую мечту (которая сбылась) прожить «на халяву» в Ленинграде, Париже и Нью-Йорке. И всё же я благодарен этому никчемному ленинградскому литератору за то, что он познакомил меня с Даром. Именно с добрым Давидом Яковлевичем я приехал в Комарово, где были расположены дачи многих писателей Ленинграда.
Помню, что этот день был в моей жизни настоящим. Настоящими были снег и мороз, по-настоящему гудели корабельные сосны и дул северный ветер с морских берегов недалёкой Финляндии. Когда мы открыли калитку во двор небольшого домика Александра Гитовича, с радостью нас встретили две ласковые дворняги, а следом за ними появился и хозяин с фонариком в руке, потому что густая зимняя темнота сошла на землю, когда мы подходили к его дому. Как же всё-таки хорошо после снежной метельной дороги ощутить искреннюю радость знакомства с чудесным человеком, и сразу же понять, что он чудесен, буквально после первого рукопожатия.
Занятие искусством не всегда, к сожалению, способствует появлению в нашем мире людей искренних, благородных, добрых. Страшный эгоцентризм, даже центропупизм присущ «творцам прекрасного». Эти «творцы» и словечка не скажут в простоте, и, как правило, мало кого они любят и слышат, кроме самих себя. Однако, бывают и счастливые исключения. Иногда в среде так называемых людей искусства можно увидеть человека, в котором талант художника или писателя соединяется с природным даром доброты, душевной щедрости, уважения к ближнему. И среди переводчиков такие люди встречаются чаще – сама профессия спасает от эгоизма, требует перевоплощения в образ мысли иного человека, в иную культуру.
Рембрандтовский свет (свечи или фонарика?) на мгновение выхватывает из темноты восточное, даже дальневосточное лицо Александра Ильича Гитовича, его немного усталую приветливую улыбку, и мы втроём входим в его дом. Дар знакомит меня с ним, и мы садимся за стол, и ужинаем, не без водки и крепкого чая.
2.
Когда в мою жизнь вошли Восток и восточная поэзия? Псалмы Давида в переложении Ломоносова, Державина и Шевченко, «Подражание Корану» Пушкина – первые глубокие литературные впечатления о Востоке, вызванные отроческим чтением этих стихов. Весьма условно их можно назвать переводами – скорее, такие тексты являются переживанием совсем не чужой многовековой культуры Востока. Скажем, и в оригинальной поэзии Шевченко присутствуют, на мой взгляд, восточные мотивы:
Дивлюся –світає.
Край неба палає.
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає.
В XI столетии китайский художник Го Си лучшим пейзажем считал тот, «где хочется поселиться». У каждого, кто знает украинскую мову, как-то по-особенному бьётся сердце, когда он слышит эти строки Шевченко. Такой читатель вспоминает своего соловушку и вместе с ним встречает своё солнце на краю своего алеющего неба. И радость охватывает сердце читателя, и он понимает, что пока будет существовать земля, будет петь вечный соловушка Шевченко. И благодарный Шевченко человек желает не только поселиться там, где поёт такой соловей, но и не покидать вовек своего родного пристанища, каждый день встречать восход солнца здесь и смотреть, как «край неба палає».
Российский поэт Дмитрий Кедрин, безусловно, под влиянием восточной поэзии писал:
Ты говоришь, что наш огонь погас,
Твердишь, что мы состарились с тобою.
Взгляни ж, как блещет небо голубое –
А ведь оно куда старее нас!
Такое небо переживёт не один «закат Европы», оно сияет и будет сиять над землёй до конца времён.
3.
Думаю, что Александр Гитович предчувствовал грядущую гибель своего социалистического отечества. Он написал стихи, по форме напоминающие его переводы из Ли Бо и Ду Фу. Однако, это не перевод, это его оригинальное произведение с названием «У великой стены»:
Есть предчувствие веры
С которой начнётся
Закалённых дивизий
Развал и распад
Это вера солдат
В своего полководца,
Что давно уже стар,
И не верит в солдат.
Впрочем, эти мужественные, афористичные строки можно воспринимать и как перевод смыслов, привнесённых в русскую поэзию китайской культурой. Александр Блок признавался когда-то в том, что все свои стихи он якобы перелагает на русский язык с какого-то неведомого языка. «Многого ещё недоперевёл», говорил он. А, возможно, это стихотворение Гитовича связано с его переводом одного стихотворения Ду Фу. Китайский поэт предупреждал своего императора в середине VIII столетия:
Стон стоит
На просторах Китая,
А зачем императору надо
Жить, границы страны расширяя,
Мы и так
Не страна, а громада.
В своём эссе «Об искусстве поэтического перевода» Гитович писал: «И если мы говорим, что Ду Фу наш современник, возможно, он может предупредить нас, современников, от великого горя? Каким же языком, современным или стилизованным, можно перевести эти абсолютно современные и абсолютно гениальные стихи?»

Александр Гитович
4.
Судьба Александра Гитовича оказалась родственной судьбам китайских поэтов – вот почему так убедительны его переводы. Суровая служба в рядах Советской Армии ещё до Великой Отечественной Войны закалила характер Гитовича, его опыт бойца-пограничника, возможно, помог ему при создании такого перевода из Ли Бо:
Утром бьёт барабан –
Значит в бой пора.
Ночью спим,
На сёдла склонясь.
Но не зря наш меч
Висит у бедра:
Будет мёртв
Лоуланский князь.
Как и Ли Бо, Александр Гитович воевал, служил своей державе пером и мечом. О войне говорить не любил. Но воспоминания о ней, о полянах трупов, раскатанных немецкими танками на Волховском фронте, не давали ему покоя, становились строками его стихов и переводов. Жестокая реальность войны заговорила на своём языке в книге Гитовича «Фронтовые стихи», что была издана в блокадном Ленинграде в 1943-м году:
Не все, читающие сводку,
Представить могут хоть на миг,
Что значит бить прямой наводкой
На ДОТы выйдя напрямик.
Так начинается стихотворение Гитовича «Полковая артиллерия». Привожу ещё одно стихотворное свидетельство Гитовича – его кредо:
Я пью за тех, кто честно воевал,
Кто говорил негромко и немного,
Кого вела бессмертная дорога,
Где пули убивают наповал.
Кто с автоматом полз на блиндажи,
А вся вокруг пристреляна равнина,
И для кого связались воедино
Честь Родины и честь его души.
Кто, не колеблясь шёл в ночную мглу,
Когда сгущался мрак на горизонте,
Кто тысячу друзей нашёл на фронте
Взамен десятков недругов в тылу.
Александра Гитовича и его легендарное поколение Великая Отечественная Война освободила от тяжких обморочных иллюзий 30-х годов. Увы, до войны, кажется, весь советский народ представлялся его вождю одним сплошным «врагом народа». А в далёкой поднебесной империи не раз повторялись такие времена, был свой 37-ой год. Об этом свидетельствует такое стихотворение Ли Бо в переводе Гитовича:
Вечером, словно старец,
Вышедший на прогулку
Спину я прислоняю
К стенам, нагретым за день.
Важно, чтоб в мире этом,
В крохотном переулке
Жители не узнали,
Что к новостям я жаден.
Иначе их узнаю
Я от властей деревни.
Иначе я узнаю
То, что мне знать не надо.
Птицы давно вернулись
К добрым своим деревьям.
Двери мои закрыты
И зажжена лампада.
Война очистила душу Гитовича, поэтому так правдиво и точно звучит и сегодня его стихотворение «Чистилище»:
Стыжусь: как часто
Я бывал в восторге –
Меня бросало
В сладостную дрожь
От грома сборищ
И парадных оргий,
Речей победных
И хвастливых сплошь.
Лишь опыт войн
Пронзительный и горький,
Который на чистилище похож
Открыл мне мудрость
Древней поговорки:
Глаз – видит правду,
Ухо – слышит ложь.
В послевоенное время, совпадающее с периодом наиболее интенсивной работы Гитовича над переводами с китайского, его оригинальную поэзию не оставляет тема войны. Свет и тьму, жизнь и смерть, войну и мир, покой и движение – в отличие от античных греков, китайское мировоззрение не противопоставляет, а соединяет эти извечные диалектические пары. И поэтому пейзажная лирика Гитовича отображает такую космическую взаимосвязанность всего со всем.
Сосны у озера
Вдохнула утомлённая земля
Под ветерком в блаженный час заката
И сосны отдыхают, как солдаты,
Могучими ветвями шевеля.
А в озере, где рябь смутила воды,
Там отраженья воинов дрожат, –
Как будто рабский страх объял солдат
В меняющемся зеркале природы.
5.
Александр Гитович, как известно, не знал китайского языка. Но его дружба с академиком Алексеевым, изучение китайской философии, истории и культуры, глубокое уважение к обычаям и особенностям китайского народа – позволили ему создать, пользуясь подстрочником, шедевры не только переводной, но и оригинальной поэзии. Оригинальная и переводная поэзии, как Инь и Ян, были взаимодополняющими мирами его души. Он понимал это. Писал об этом с доброй самоиронией и юмором.
Признание
В этом нет ни беды,
Ни секрета:
Прав мой критик,
Заметив опять,
Что восточные классики
Где-то
На меня
Продолжают влиять.
Дружба с ними
На общей дороге
Укрепляется
День ото дня.
Так что даже
Отдельные строки
Занимают они
У меня.
6.
Александр Гитович хорошо знал учение Конфуция и Лао Цзы, и его опыт мужественного и мудрого человека совпал с поиском гармонии в нашем неустойчивом мире великих собратьев по искусству далёких по времени, но близких по сердцу Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэя, Цюй Юаня, Цао Чжи и Тао Цяня.
Попробую сравнить два текста – один философский, другой – поэтический. Философский (Конфуция) звучит для меня очень актуально, действительность нашей постсоветской жизни с её нуворишным презрением к бедному человеку может отобразиться в этом тексте, как в зеркале: «В любви к учению будьте искренними, не отступайте от пути даже под угрозой смерти. Если Поднебесная идёт путём Дао, будьте заметными, если нет – скройтесь. Если держава идёт путём справедливости (Дао), стыдно быть бедным и неуважаемым. Если держава не идёт путём справедливости, стыдно быть богатым и уважаемым». Справедливые, правдивые слова. И всё же стихотворение Ли Бо в переводе Гитовича превосходит, для меня, этот прекрасный текст Конфуция, вернее, поэзия вмещает в себя и эту мудрость, но выражает её языком страдания и любви, рождённым в глубинах измученного сердца. А этот язык роднит и Шекспира, написавшего 66-й сонет, и великого китайского поэта, и его переводчика, и всех читателей непревзойдённого произведения Ли Бо.
Без названия
И ясному солнцу
И светлой луне
В мире
Покоя нет.
И люди
Не могут жить в тишине,
А жить им –
Немного лет.
Гора Пэньлай
Среди вод морских
Высится,
Говорят.
Там в рощах нефритовых и золотых
Плоды, как огонь, горят.
Съешь один –
И не будешь седым,
А молодым
Навек.
Хотел бы уйти я
В небесный дым,
Измученный
Человек.
7.
Великие мастера художественного перевода, и русские и украинские – Пастернак, Бажан, Тарковский, Павлычко, Липкин, Рыльский, Кочур, Лукаш… Их творчество прекрасно знал Гитович. Он с большим уважением относился к украинской культуре, в отличие от многих московских и ленинградских снобов. Его любовь к украинскому пейзажу я (возможно, субъективно) с какой-то особенной радостью ощущаю в его переводе стихотворения Ду Фу «День холодной пищи»:
В глухой деревне
В день холодной пищи
Опавшие
Кружатся лепестки.
Восходит солнце,
Осветив жилища,
И в лёгкой дымке
Отмель у реки.
Крестьяне пригласят –
Пойду к их дому,
Пришлют подарки –
Не отвергну их.
Здесь все друг с другом
Хорошо знакомы,
И даже куры
Спят в дворах чужих.
…Как ни уничтожала цивилизация в XX веке традиционную культуру, а всё же и теперь можно ещё увидеть на нашей земле и прозрачную чистую речку, и сельских жителей, таких же добрых и гостеприимных, как в стихотворении Ду Фу – Гитовича.
8.
Китайская поэзия и живопись – это, по выражению Пастернака, «пространство, влюблённое в пространство». Бесконечный мир китайского свитка не поглощает человека, а охватывает его чувством своей бесконечности в природе, где за горами – горы, за холмами – холмы, за долинами – долины. Европейский поэт или художник стремится к слиянию с природой в блаженном пантеистическом трансе, а китайский творец просто не отделяет себя от окружающего мира, уважая его суверенное существование, тихо с ним собеседуя. Иногда результатом такого взаимопонимания становится картина или стихотворение; и в них наполненность благодарит пустоту, речь благодарит молчание, жизнь благодарит небытие, за великую целостность нашей Вселенной.
Одиноко сижу
В горах Цзинтинцань:
Плывут облака
Отдыхать после знойного дня.
Стремительных птиц
Улетела последняя стая.
Гляжу я на горы,
И горы глядят на меня,
И долго глядим мы,
Друг другу не надоедая.
Ли Бо (перевод А.Гитовича)
9.
Александр Ильич Гитович со всеми своими сомнениями и страданиями был цельным человеком, и этой основной чертой своего характера напоминал китайских поэтов – своих собеседников во времени и пространстве мировой культуры.
Говорил Конфуций: «Человек излишне природный – дикарь, человек излишне учёный – книжник». Гитович не был ни книжником, ни дикарём, потому что соединял в своей душе природу и культуру, не гордился званием литератора, любил рыбачить, работать на земле, ценил дружескую беседу с доброй стопочкой водки на столе. Говорил о том, что член общества трезвости не должен переводить стихи Ли Бо и Ду Фу, потому что ничего хорошего из этого не получится. Он любил общаться с людьми и в то же время ценил часы полноценного одиночества на природе.
Думаю, что следующий перевод из Ду Фу напоминает автопортрет китайского поэта, и вместе с тем портрет Гитовича:
«В одиночестве
Угощаюсь вином».
В туфлях по лесу
Я бреду лениво
И пью вино
Неспешными глотками.
К пчеле приклеился
Листочек ивы,
А дерево
Покрыто муравьями.
Я не подвижник –
Это вне сомненья, –
Но шляпы не хочу
И колесницы.
Приносит радость мне
Уединение
И незачем
Перед людьми хвалиться.

И ещё всё о том же – стихотворение Ду Фу – Гитовича:
«Медленно шагаю».
Туфли надев, шагаю
В поле среди природы.
Скоро повечереет.
Ветер шумит листвою.
Ласточки улетают
С нашего огорода.
Усики пчёл покрыты
Сладостною пыльцою.
Медленно пью вино я,
А заливаю платье,
И опершись на посох,
Тихо стихи читаю.
То, что велик талант мой –
Смею ли утверждать я? –
Просто я пьяный дурень –
Это я утверждаю.
10.
На мой взгляд, каждый достойный поэтический перевод является прорывом в неведомые миры. Открытие таких миров совершается в душе переводчика и совпадает с открытием самого себя, своих возможностей художника и человека, а также с всечеловеческой потенциальной возможностью понимания людей и народов на планете Земля. Об этом совсем без иронии писал в 1933 году Осип Мандельштам:
Татары, узбеки и ненцы
И весь украинский народ,
И даже приволжские немцы
К себе переводчиков ждут.
И, может быть, в эту минуту
Меня на турецкий язык
Японец какой переводит,
И в самую душу проник.
Это стихотворение Мандельштама, по выражению российского литературоведа Топорова, манифестирует высшую внеязыковую реальность поэзии после того времени, когда Всевышний остановил строительство Вавилонской Башни, уничтожил её и смешал языки. Многоязычным стало человечество, и теперь каждому народу для того, чтобы реализовать себя в истории, нужно выразить себя на родном языке, причём не утратив прапамяти о едином корне своего всечеловеческого происхождения.
А что, как не поэтические переводы, может помочь в таком деле?!
11.
Все мы живём под влиянием тех или иных стереотипов поведения наших родителей, учителей, друзей. Иногда поэт или читатель находит себе друга и брата в древних временах, в других эпохах, на иных континентах. А потом чувствует его глубокое влияние на свои жизнь и творчество. Гитович так об этом писал в уже упомянутом мною эссе: «Бывает, что переводчик допускает: то, что я не смогу создать в моём времени и в моей стране – самой дорогой мне на белом свете, – если я не смогу это сделать один, я сделаю это вместе с тобой, великим поэтом, которого я перевожу. Мы сделаем это вместе. Не волнуйся, Ду Фу: я знаю, насколько ты превосходишь меня в поэзии, и это не мешает мне быть твоим другом. Больше того – я внезапно понял, что счастлив оттого, что я российский, а не китайский поэт. Ведь иначе я не смог бы тебя переводить, а просто воспринимал бы тебя хрестоматийно. Истинный твой перевод – это возрождение могучего искусства старого классического поэта – и тогда он становится самым современным поэтом – а если этого не случилось, то виноват переводчик. Разумеется, я говорю о переводе гениальных поэтов».
И сам Ду Фу писал о своей тоске по другу-поэту в ином времени в стихотворении «Жаль»:
Зачем так скоро
Лепестки опали.
Хочу
Чтобы помедлила весна.
Жаль радостей весенних
И печалей –
Увы, я прожил
Молодость сполна.
Мне выпить надо,
Чтоб забылась скука,
Чтоб чувства выразить –
Стихи нужны.
Меня бы понял Тао Цань
Как друга,
Но в разные века
Мы рождены.

12.
Варлам Шаламов в письме к своему колымскому другу писал о том, что, по его мнению, писатель не должен хорошо знать материал, о коем собирается писать. Парадокс? Нет, это правда. Не только писатель овладевает материалом, но и материал овладевает писателем, идёт процесс самопознания в материале жизни. В случае с художественным переводом – речь идёт о самопознании себя в другом человеке, в ином народе, в иной культуре, в ином времени, правда, если это художественный перевод такого уровня, как у Липкина, Тарковского, Левика, Кочура, Лукаша, Павлычка…
«Дух дышит, где хочет». И разве можно постичь и предвидеть Его неисследимые пути?
13.
И непостижимое искусство поэтического перевода идёт путём Дао. И переводчик открывает себя, свою душу, в творчестве физически давно переставших существовать поэтов Древнего Египта, Китая, Индии. И переводчик, таким образом, преодолевает пространство и время и ограниченность своего смертного срока пребывания на земле. Лучше меня об этом сказал Гитович в своём стихотворении «Надпись на книге «Лирика китайских классиков»»:
Верю я, что оценят потомки
Строки ночью написанных книг.
Нет! Чужая душа – не потёмки,
Если светится мысли ночник.
И, подвластные вечному чувству,
Донесутся из мрака времён –
Трепет совести, тщетность искусства
И подавленной гордости стон.
14.
…Где-то в начале 90-х прошлого века встретился я с прекрасным украинским поэтом Иваном Сокульским, – он не так давно тогда возвратился в Украину из мордовских лагерей. С горечью видел он, как в его «незалежной» державе взяли власть в свои руки бандиты и воры под жёлто-голубым флагом.
Взяли мы в гастрономе пляшку горилки, зашли ко мне домой. О многом мы говорили тогда, и почему-то я припомнил далёкий зимний вечер в Комарово на даче у Гитовича, стал читать Ивану китайских классиков в переводах Александра Ильича. А Иван неожиданно заговорил о теории пассионарности Льва Гумилёва. Он сказал, что два народа – евреи и китайцы – совсем не вписываются в эту теорию зарождения, упадка и гибели этносов. Живут, нарушая закон энтропии, уже четыре тысячи лет.
И сказал тогда Иван: «Пусть и мой добрый, честный, работящий народ проживёт такой срок, и даже более того, пусть ни один народ на земле никогда не ассимилируется, не погибнет, не исчезнет. Давай выпьем за это, Семён!»
За это мы и выпили.