Хан-Тенгри
Историко-культурный и общественно-политический журнал
Проблемы и перспективы евразийской интеграции
Дмитрий Замятин: «Культура есть основа и экономики, и политики...»
Лауреат премии Андрея Белого, основоположник образной (имажинальной) географии Дмитрий Замятин рассказывает читателям журнала «Хан-Тенгри» о своей науке.
Дмитрий, вы не могли бы для начала пояснить нашим читателям, что это за наука такая – гуманитарная география?
Гуманитарная география – это такое достаточно свободное пространство, где пересекаются самые разные науки. Строго говоря - междисциплинарное научное направление, изучающее различные способы представления и интерпретации земных пространств в человеческой деятельности, включая мысленную (ментальную) деятельность. Главные слова здесь – различные способы представления и интерпретации. Это в значительной степени субъективная наука, в которой понятия субъекта и объекта можно менять местами: то ли мы возделываем землю, то ли земля возделывает нас.
Гуманитарная география выросла из культурной географии – дисциплины, которая зародилась в начале прошлого века одновременно во Франции, Англии, Германии и России – в самых развитых странах того времени. В советские времена она у нас захирела и возродилась только к концу 80-х годов. Именно тогда я пришел в эту сферу, проштудировал западные материалы и понял, что нет смысла повторять то, что уже наработано за последние полвека. В итоге возник вот такой гибрид под названием «гуманитарная география». Мы с коллегами разделяем её на три вида: имажинальная география, когнитивная география и мифо-география. Я занимаюсь первой.
А кто вы по образованию?
По образованию я географ, экономическая география, заканчивал географический факультет Московского университета. Собственно, коллизия была в том, что я поступил на естественный факультет. А, по сути, с детства был гуманитарным мальчиком, который читал книжки, в основном по истории, любил литературу. Но так сложилось, что поступил на географический факультет, а там гуманитарного было мало. В результате я штудировал экономическую географию, но попутно занимался самообразованием, то есть читал всякие книжки за пределами учебных курсов. Закончил аспирантуру, защитил диссертацию тоже по экономической географии, и уже по ходу собственного научного поиска понял, что мне интересно – то, что на Западе называлось культурной географией, а у нас практически отсутствовало. Произошло это где-то к концу 80-х годов. Эпоха тому способствовала: была перестройка, все, кто мог, расширялись в разные стороны, никаких барьеров не было. Ну и, соответственно, где-то к началу 90-х я занялся для себя формулированием того, чем я хочу заниматься, как я это буду делать.
Мне помогло что? Помогло, что в какой-то момент я, так сказать, придрейфовал к философии. Многие знают известного философа Валерия Подорогу. Я с ним познакомился в начале 90-х, часто бывал у них на семинарах в Институте философии, ну и мне это очень помогло. То есть в течение двух примерно лет я интенсивно вращался в этой среде и многим обязан как раз Валерию, которого во многом считаю своим учителем. Он помог мне в формировании того дискурса, из которого к середине 90-х годов вылупилась, сформировалась образная, имажинальная география.
А это что такое?
Имажинальная, или образная география изучает особенности и закономерности формирования географических образов, структуры географических образов, специфику моделирования географических образов, способы репрезентации и интерпретации географических образов. На Западе это было, но быстро ушло, то есть оно как бы не стало основным направлением в западном варианте культурной географии. А для меня оно остаётся основным. К концу 90-х я сформировал для себя научную базу и начал публиковать какие-то работы. То есть конец 90-х – это такая коагуляция того, чем я в итоге стал заниматься.
Ну, и получилось так, что первое применение моих работ – это, в общем, геополитика. Поскольку наша отечественная география даже в эпоху 90-х не была настолько толерантной, оставалась достаточно консервативной областью, и я, в общем, там смотрелся довольно маргинально, поэтому основные мои работы публиковались за пределами географического пула журналов. Сначала была политология. Геополитика, которая у нас тоже, в общем-то, была уничтожена в своё время, получила в 90-е годы новые импульсы к развитию, и, соответственно, я познакомился с коллегами, которые в то время интенсивно этим занимались. Прежде всего, это ныне уже покойный Вадим Цымбурский. Он изначально филолог, но потом ушёл в геополитику, политологию, в общем, написал очень много интересных работ. Был публицистом, лингвистом – в общем, очень разносторонним человеком. Довольно колючим иногда, но мы с ним хорошо общались. То есть этот период – конец 90-х, начало нулевых годов – это в основном работа с политологами, в политологии – на уровне формирования теории геополитических образов.
Именно тогда у нас возник интерес к евразийскому дискурсу, у меня в том числе. В начале 90-х я работал в Московском институте развития образовательных систем Вместе с братом готовили хрестоматию по географии России, и, собственно, это было первым толчком – на образовательном уровне. Как раз тогда мы начали читать евразийцев, в географии о них мало что знали, их подняли на поверхность философы и историки. Вот это был первый толчок, и, собственно, от евразийцев был естественный переход к геополитике.
Получается, первые евразийцы подошли к гуманитарной географии ещё в начале прошлого века?
Да, у них эта тематика как бы в подсознании присутствовала, учитывая их огромный лингвистический базис. Но, по сути, там единственный географ Савицкий, остальные – философы, лингвисты, языковеды. Савицкий и в какой-то степени Вернадский.
Евразийский дискурс – он был, конечно, идеологически связан с эпохой, там надо отсеивать зёрна от плевел, но работы их были, действительно, очень интересные в геокультурном смысле, в смысле воображения, хотя и спорные. То есть концепт Евразии, на мой сегодняшний взгляд, имеет много прорех, но тогда на меня это повлияло сильно. Когда я составлял хрестоматии по географии России: «Пространства России», потом «Империя пространства» – это как раз геополитика и геокультура России, – то во многом опирался на их работы.
Постепенно я начал дрейфовать в сторону культурологии, понимая, что для меня не политика важнее всего, а именно культурная подоснова. И в 2005-ом году защищаю уже докторскую диссертацию по культурологии.
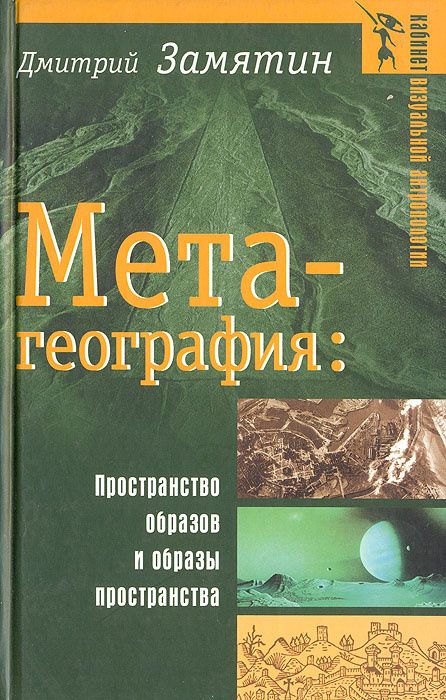
Так-так... Географ глобус пропил?
Ну, не совсем. Это географическая диссертация, но по культурологии. То есть, в принципе, получается так, что я всё время работаю в междисциплинарном контексте: и с политологами продолжаю диалог, и с культурологами, и с географами. Очень интенсивно общаюсь с филологами, литературоведами. И должен упомянуть, конечно, литераторов и эссеистов. Поскольку я, в общем-то, сам писал эссе в последнее время и поэтические тексты, то для меня эти контакты очень важны.
В конце 90-х годов одним из импульсов к работе было общение в рамках «Эссе-клуба». Конец 90-х в Москве – это множество литературных клубов, сейчас такого нет, поскольку интернет всё перекрыл, а тогда это была сеть литературных клубов, которые делили между собой дни недели, то есть в понедельник такой-то литературный клуб, и так вот до конца, до пятницы и субботы. Я посещал в основном «Эссе-клуб», им руководил Рустам Рахматуллин – ныне один из руководителей «Архнадзора», москвовед, краевед, – да, и мы с ним большие друзья. Вот тогда я с ним познакомился, он меня туда пригласил. Там возникла команда «Путевого журнала»: эссеисты, писатели, которые интересовались проблемами пространства, путешествий. Там было много людей, но основу составляли Рустам Рахматуллин, ныне покойный Андрей Балдин (архитектор, эссеист, художник), Василий Голованов (писатель, тоже журналист), ну и я. Такая основная четвёрка…
У нас были очень интересные проекты-путешествия. Первое и самое замечательное – это проект-путешествие «Империя пространства: в сторону Чевенгура». Мы поехали в Воронежскую область искать место, где был Чевенгур – такая геополитическая задача. Это был двухтысячный год, путешествие оказалось незабываемым. Потом с Рустамом ездили на север Урала, в Пермский край, до Чердыни, тоже интересный проект.
Это был тесный круг людей, которых интересовали и интересуют образы пространства, как бы вот такие путевые образы. А для меня это была не только научная тема, но и тема каких-то художественных текстов, художественных работ.
Вот с точки зрения гуманитарной географии – насколько, по-вашему, проработан евразийский дискурс?
На мой взгляд, один из минусов того, что у нас происходит, – это, конечно, отсутствие нормальной, концептуально фундированной евразийской политики. Это правда. То есть либо это чистая идеология, либо чистая публицистика, ну, либо ответы на запросы тех или иных государственных деятелей. В этом смысле, на мой взгляд, самостоятельного такого концептуального дискурса евразийского у нас не существует, хотя, казалось бы, для нашей страны он весьма актуален.
«Если попытаться представить себе метагеографическую структуру Евразии, исходя из образно-географической дихотомии остров-материк, то мы можем отчетливо увидеть две метагеографические оси, тянущиеся примерно параллельно друг другу с северо-запада на юго-восток (можно сказать и наоборот: с юго-востока на северо-запад, но определенного направления здесь нет). Первая ось – евро-индийская (индоевропейская), начинающаяся на крайнем северо-западе Европы (Британские острова, Нидерланды), идущая далее через Южную Европу и Средиземноморье на Ближний Восток и заканчивающаяся собственно в Индии. Вторая ось – российско-китайская, начинающаяся на Кольском полуострове, продолжающаяся на Русском Севере, проходящая далее через Урал, юг Западной Сибири, частично Казахстан, Алтай, Центральную Азию и заканчивающуюся собственно в Китае. Перефразируя известное выражение Уинстона Черчилля, можно назвать эти две метагеографические оси "мускулами евразийского мира". Другое возможное название – метагеографические водоразделы Евразии.
Понятно, что невозможно мыслить подобные оси как некие тонкие прямые линии, точно проведенные и обозначенные на обычной географической карте Евразии. По всей видимости, это осевые пространства, воображаемые "коридоры", задающие образно-географическую энергетику материка. Можно мыслить также евразийские "водоразделы" и как своего рода большие геократические пояса, воздействующие на геополитические и геокультурные ритмы Евразии, а, возможно, и всего мира.
Как связаны эти "водоразделы" между собой – если представлять Евразию как единое метагеографическое целое? В первом приближении, обе оси как бы уравновешивают запад и восток Евразии в рамках общего географического воображения. В то же время эти метагеографические оси связываются между собой относительно небольшим цивилизационным ядром, тяготеющим к географическому центру Евразии – Ираном, чья несомненная и протяженная во времени цивилизационная устойчивость является, с одной стороны, "крепким орешком" с точки зрения внешних цивилизационных влияний Европы, Индии, Китая, а, с другой стороны, Иран, несомненно, выступает в качестве определенной цивилизационной перемычки, связующей две мощные осевые структуры. На уровне историко-цивилизационного, этнокультурного, языкового генезиса роль Ирана как места цивилизационного транзита очевидна, однако мы хотели бы обратить внимание на другое обстоятельство: Иран не может претендовать в метагеографическом смысле на образ острова, материка или острова-материка – тем не менее, ему можно отвести образное место плато, плоскогорья; это пустынное возвышенное пространство, собирающее и сохраняющее, иногда и порождающее, некоторые наиболее важные для Евразии в целом символы, знаки, архетипы, ментальные паттерны – довольно архаичные и в то же время онтологические. Иран, возможно – метагеографическая "кунсткамера" Евразии.
Между тем, Иран может рассматриваться и как определённый цивилизационный барьер или цивилизационное "сито": в течение исторического времени он неоднократно выступал в качестве серьезного препятствия на пути мощных кочевых миграций и завоеваний; известная мифологическая оппозиция Ирана и Турана – одно из свидетельств подобного, одновременно и историко-географического, и метагеографического обстоятельства. Наряду с этим, географический образ Ирана может моделироваться, в терминах геоморфологии, как "бараний лоб" – возвышенное место, гора с выпуклой вершиной, на которую трудно забраться. Иначе, говоря, на метагеографической карте Евразии Иран является в образном смысле цивилизационным "тормозом", как бы предохраняющим пространство Евразии от слишком опасных центробежных движений, он – масштабная территория ретардации межцивилизационного взаимодействия.»
Дмитрий Замятин, «Метафизические оси Евразии»
Я последнюю работу на эту тему написал в конце нулевых годов. Там была идея о метагеографических осях Евразии, ну, и о неких таких дискурсивных осях, которые существуют в развитии российской геополитической и геокультурной мысли. То есть, если кратко их излагать, существует, в общем, четыре таких дискурса. Первый – южный, юго-западный, через Крым на Византию в сторону Средиземноморья и античной цивилизации. Это такой «Греческий проект» с Владимиром, который крестился в Корсуни, форсируемый в эпоху Екатерины Великой с выходом на чернозёмы и побережье Черного моря, то есть отчетливая средиземноморская доминанта. Второе направление – северо-западный дискурс – через эпоху Петра Первого, через Северную Европу, через Петербург, – ну, попытка взаимодействия с Европой, через север Западной Европы. Ну, и далее дискурс очевидный – северо-восточный. Он формировался новгородцами во многом в обход через Северный Урал, то есть не напрямую, из-за того что там были кочевые заслоны, а скорее северо-восточный, и дальше, в Сибирь и на Дальний Восток. Это XIV век, потом XVII и так далее. И последний по времени формирования – это юго-восточный дискурс, это центральная ось, для меня наиболее интересная, я сторонник именно вот этого последнего дискурса. Это наиболее интересно с точки зрения дальнейшего развития России. Понятно, что взаимодействие с Европой очень много России дало, то есть первые два направления – они были очень важны для России, безусловно. Сначала антично-византийский толчок-импульс, потом собственно европейский, это до сих пор наша геокультурная база. Северо-восточный дискурс – это, скорее, дискурс отсиживания в солженицынском понимании: мол, надо отойти, отсидеться на северо-востоке, а потом снова выходить и развивать свои сферы влияния. Но он такой тупиковый, на самом деле. А юго-восточный – самый важный. Безусловно, это продолжение частично идеи евразийцев – такой вот славяно-тюркский синтез, в какой-то степени славяно-тюркско-монгольский, – ну и это выход, в общем-то, на линию взаимодействия с Китаем, при том, что с Китаем мы абсолютно противоположны по многим базовым компонентам мировидения. Тут я исхожу из того, что столкновение противоположностей рождает искру, тягу к развитию. Юго-восточная ось – самая перспективная в плане развития. Понятно, что сейчас у нас есть экономический контакт, политический контакт с Китаем, но ситуация асимметрична, в силу того что экономический и политический вес Китая уже несоизмерим с нашим. Здесь есть проблемы – но, с моей точки зрения, с точки зрения метагеографии и геокультуры, мне кажется, этот евразийский, юго-восточный дискурс, который идёт через Китай и далее в Юго-Восточную Азию – самый важный.
На чём это основывается? На том, что, собственно, культура есть основа и экономики, и политики, и именно культурное взаимодействие обеспечивает в той или иной степени эффективность и экономических, и политических действий. И как раз проблема с Китаем состоит в том, что это очень различные культуры, которые очень далеки друг от друга. Несмотря на то, что много китайцев знают русский, мы интенсивно изучаем китайский, но это очень важная онтология культурная и геокультурная, и поэтому возможности политического и экономического взаимодействия достаточно ограничены при любого рода партнёрстве. А с элитами Центральной Азии мы говорим, по сути, на одном языке.
Надолго ли?
Посмотрим... В культурной географии и в физической географии есть понятие «страна» – не в политическом смысле, а в понимании крупного региона, обладающего своей самобытностью: культурной самобытностью или религиозной самобытностью. В этом смысле та же Средняя Азия – ну, в традиционном советском смысле – это несколько стран, очень интересных, но не совпадающих с границами, с политическими границами, на самом деле. Это достаточно серьёзная проблема для этих стран, молодых с точки зрения нациестроительства. Но в большой перспективе, конечно, именно хорошая этническая мозаика даёт очень мощные такие метамонолиты геокультурные, в том случае, если эти элементы мозаики – отдельные эти народы – они приучены к хорошему взаимодействию: на культурной основе, на языковой основе. В этом смысле для меня очень важно, что, скажем, сейчас уже в постсоветской Средней Азии сохраняется Ферганская поэтическая школа. Есть такой человек, замечательный писатель, как Шамшад Абдуллаев – великолепнейший писатель, я считаю, лучший русскоязычный писатель в Центральной Азии. То есть это, на самом деле, очень важно. Можно спорить о том, останется ли русский язык таким метаязыком для этих всех общностей, но, на самом деле, почему нет? Никто не оспаривает всемирной роли английского языка, но русский язык как раз вот для постсоветского пространства, для северо-евразийского пространства может быть такой скрепляющей, на самом деле, важной вещью.
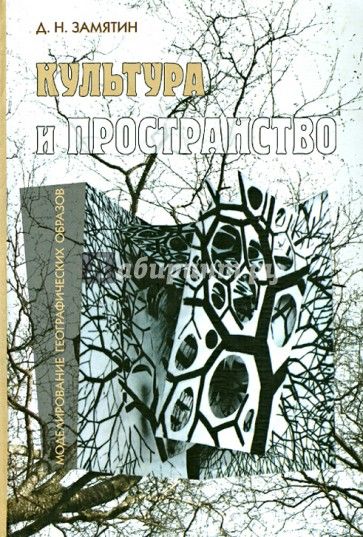
А какой язык лучше всего подходит в качестве инструмента для описания СреднейАзии: тюркский, русский, фарси?
Ну, в своё время, до где-то начала XX века, таким языком был фарси. Персидский, да. Персидский, то есть именно скрепляющий имперский язык. Даже уже в отсутствие обширной Персидской империи он сыграл важнейшую роль в формировании центральноазиатского дискурса. Он играл эту роль в течение, по-моему, ну так с лишком тысячи лет. Даже когда приходили арабы, вот, собственно, именно тогда, при арабах, возникает роль этого языка в большей степени. Он распространился на территории Арабской империи за счёт арабов, потом ещё несколько тюркских империй, и в результате он уже где-то там к XV-XVI векам стал таким лингва франка на этих территориях. Несмотря на то, что постоянно менялись государственные границы, распадались империи – персидский язык оставался. Он интенсивно использовался в торговой среде купцами, был от Китая до Каспия языком Шелкового пути. Включая Индию, поскольку в империи Моголов фарси был официальным языком на огромной территории. Это было важно. Но его влияние исчезает где-то в начале XX века с переходом тоже самой Персии к нациестроительству.
Русский язык занял место фарси. И хотя в последние 30 лет за ним не стоит, так сказать, державная мощь, но по факту и на уровне подсознания он остается для Центральной Азии таким языком лингва франка. Как и на Украине, несмотря на решительную борьбу с ним, как и в Беларуси – да и в Прибалтике тоже. Более того, Монголия, с моей точки зрения, входит в такое геокультурное пространство Северной Евразии, и русский язык, на самом деле, тоже. Хотя они учат китайский (понятное дело, почему), но русский там тоже многие знают и в силу понятно, торговых связей, но и в силу такой ещё приближённости к былому советскому дискурсу. Это очень важное явление.
Ну, а тюркский язык?
Тюркский? Если говорить о североевразийской общности, в этом смысле я очень сомневаюсь. Как центральноазиатский дискурс это возможно, но опять-таки здесь есть проблема Турции, турецкого имперского дискурса, который утягивает в пантюркизм – а пантюркизм в Центральной Азии сегодня не актуален. То есть это такой ретродискурс, связанный именно с определённой связью разных языковых групп, которые распались где-то, наверное, не знаю, в X-XI веке. Поэтому, если говорить о пространстве Евразии, то это не универсальный язык. Более того, в силу политических проблем, связанных с Турцией, в силу такого имперского псевдоосманского дискурса, это вряд ли возможно.
Где и над чем вы сейчас работаете, Дмитрий?
С 2015 года я работаю в Высшей школе экономики, в Школе урбанистики. Сейчас этот факультет называется «городских и региональных исследований», он недавно создан из разных подразделений. А поступал я в Высшую школу урбанистики – это был отдельный маленький факультет, совсем крошечный, ну там была неплохая атмосфера, она вообще более-менее и сейчас сохраняется. То есть какая-то свобода мысли и выражения, при которых я могу заниматься свободно, чем я хочу, а это для меня главное. Центр моих интересов сместился в сторону исследования городской тематики. Ну, и по-прежнему это занятие пространством, со-пространственностью. Для меня важен диалог не только с Москвой, с Петербургом, с зарубежными городами, но и с разными регионами.
То есть очень важно в моей работе – это поездки в регионы, путешествия различного рода. Как правило, это либо приглашения на конференции, где я знакомлюсь с новыми людьми, либо какие-то проекты. Например, был проект, поддержанный Российским научным фондом, связанный с Якутией. Там я выступал как руководитель проекта по основанию Лаборатории комплексных геокультурных исследований Арктики. Это с 2014 по 2016 год. Мне приходилось часто ездить в Якутск, было несколько экспедиций по Якутии и на Чукотку – это были довольно интересные поездки. Это всегда общение, то есть ты знакомишься с людьми, у которых, грубо говоря, другое сознание – другое региональное сознание, другая как бы локализация жизни, – это очень важно. Такие поездки очень сильно подпитывают.
Дмитрий Замятин – кандидат географических наук, доктор культурологии. Основатель и руководитель Центра гуманитарных исследований пространства НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва. Главный научный сотрудник Высшей школы урбанистики ВШЭ. Основоположник гуманитарной географии и одного из её основных направлений – образной (имажинальной) географии. Лауреат премии Андрея Белого за книгу эссе «В сердце воздуха».

