СВЯЗЬ ЭТНОСА И КОНФЕССИИ. ПРОЯВЛЕНИЕ ЭТОЙ СВЯЗИ В РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ В БЕЛОРУССИИ
Автор: ИАЦ МГУ
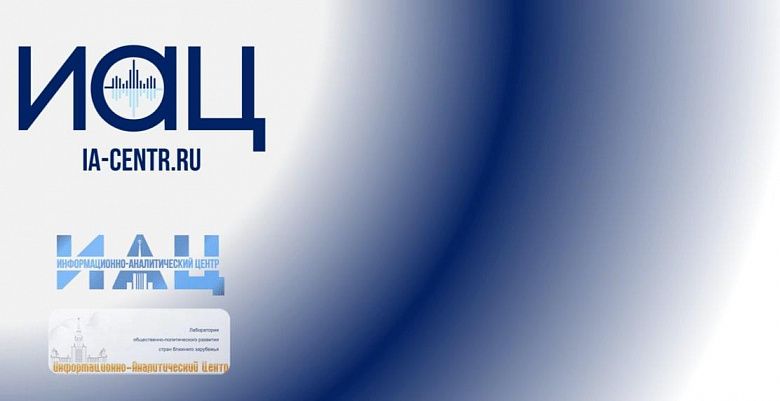
Казьмина О.Е.,
доктор исторических наук,
доцент кафедры этнологии
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
СВЯЗЬ ЭТНОСА И КОНФЕССИИ.ПРОЯВЛЕНИЕ ЭТОЙ СВЯЗИВ РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ В БЕЛОРУССИИ
Этнические и конфессиональные общности - это два разных вида социальных объединений людей. Однако нередко они существуют на одном территориальном пространстве и представлены в одной и той же совокупности людей 14 . При этом границы между этими видами общностей иногда причудливо пересекаются между собой, порой происходит этнизация конфессии и конфессионали-зация этноса.
Кроме того, последние десятилетия, когда связь религии с этничностью возросла, показали, что даже при отходе от религии в смысле личной веры люди продолжают себя связывать со своей «исторической» конфессией. Отсюда появились самоопределения типа «православный атеист», как однажды определил себя белорусский президент, или также встречающаяся более логичная самоидентификация «атеист из православных». Рост интереса к религии и роли религии в обществе ознаменовался увеличением числа как тех, кто принимает религиозную веру на уровне мировоззренческого выбора, так и тех кто приобщен к религии прежде всего через обрядовую сторону и тех, кто ассоциирует себя с определенной конфессией в силу этнокультурных причин.
Поскольку религия - комплексный и многомерный феномен, могут быть разные проявления личной связи человека с религией, или на первый план могут выходить разные грани религии: религия как вера, религия как идентичность и религия как образ жизни 15 . Религия как вера имеет отношение к убеждениям, т.е. это означает, как человек понимает основные доктринальные положения и принимает ли их. При проявлении этой грани важно, что человек воспринимает догматические положения в соответствии с учением. Таким образом, религия как вера подчеркивает док-тринальную сторону. Что же касается религии как идентичности, то эта грань отражает связь с конкретной группой, определенную общность, в каком-то смысле родство. Механизм связи схож с причислением себя к этносу. В этом случае человек верит в свою принадлежность к конфессии по фактам рождения в данной группе, связи с данной культурной средой и может даже не задумываться над сутью доктринальных положений. Важен факт принадлежности к группе независимо от личных представлений о тех или иных догматах (опять можно провести параллель с отнесением себя к определенному этносу - для чего можно и не быть знакомым со многими элементами традиционной культуры). Третья грань религии - религия как образ жизни. Для конкретного человека эта грань обычно связана с одной из двух других упомянутых граней, являясь как бы производной от одной из них; имеется в виду, что религия предписывает выполнение определенных обрядов и других действий, что формирует следование определенной традиции и обычаям: конкретный человек может все это соблюдать либо из-за признания определенной догматики, либо из-за связывания себя с конкретной группой, в которой так принято, либо из-за того и другого одновременно. То, какая грань выходит на первый план, зависит от многих причин. На это влияют особенности религиозного учения: в православии, например, сложилась особенно тесная связь между религией и этничностью, что делает очень важной идентификационную составляющую религиозности. На выделение той или иной грани воздействуют и традиционные отношения Церкви и общества. Так, для современного западного общества, где религия рассматривается прежде всего как личное дело человека, характерен упор на первую грань (религия как вера), то есть на личные убеждения человека, и недооценка двух других граней. Оказывает влияние и религиозная структура населения. Понятно, что в случае моноконфессиональности этноса религия играет заметную роль в этнической консолидации, часто приобретает роль маркера в этнической идентичности (особенно это заметно у малых этнических групп и прежде всего в иноконфессиональном окружении). У поликонфессиональных этносов религия может быть определителем групповой идентичности и привести к обособлению отдельных субэтносов или конфессиональных групп. В случае религиозной неоднородности этноса, но резком преобладании в нем последователей одной конфессии религия, конечно, играет интегрирующую роль для большей части этноса, но не столь очевидную, как у малых моноконфессиональных групп 16 . Теперь посмотрим, как выявленные закономерности проявляются в религиозной ситуации в Белоруссии. Большинство населения Белоруссии придерживается православия (по разным оценкам, от 70 до 80% населения). Это прежде всего последователи Белорусской Православной Церкви. Она входит в Русскую Православную Церковь, являясь ее экзархатом, т.е. она в значительной степени автономна в решении внутренних вопросов. Церковь возглавляется митрополитом Минским и Слуцким, патриаршим экзархом всея Белоруссии. Православие исповедуют живущие в Белоруссии русские и большая часть белорусов. Вторая по численности конфессия Белоруссии - Римско-Каголическая Церковь (к ее приверженцам относятся 13-17 % населения). Причем среди католиков Белоруссии резко преобладают католики латинского обряда, а не униаты, как на Украине. Католицизма придерживаются живущие в Белоруссии поляки и часть белорусов (большинство живущих в стране католиков составляют именно белорусы). Примерно 2% населения Белоруссии образуют протестанты разных деноминаций (самую крупную группу протестантов составляют пятидесятники). Живут в Белоруссии также иудеи и мусульмане.
Таким образом, Белоруссия - единственная из стран СНГ, где двумя основными религиозными группами являются православные и католики латинского обряда. Исторически обе эти конфессии в Восточной Европе были сильно этнизированы. Православие ассоциировалось с русской идентичностью, католицизм с польской (в Белоруссии и Литве в качестве синонима к слову «католицизм» использовалось выражение «польская вера», слова «католик» и «поляк» часто употреблялись как синонимы).
Кроме того, вплоть до 1917 г. Православная Церковь в связи с ее государственным статусом в Российской империи имела привилегии, которыми не обладали другие деноминации. В начале XX в. принадлежность к православию оберегалась государством. Возможность смены религиозной принадлежности имела четкую направленность. Обращение в православие было не просто открыто для всех российских подданных, но и поощрялось. Переход же из православия в любое другое христианское, а тем более нехристианское исповедание был запрещен законом. Причем, если само отпадение от православия не было наказуемо в уголовном порядке, то за совращение из православия в другую веру предусматривались суровые наказания 17 . Запрещенный законом неправославный прозелитизм расценивался и правительством, и Церковью не только как угроза сохранению религиозного единства русского народа и религиозной самобытности этнических меньшинств, но и как инструмент этнокультурной ассимиляции. Отсюда проповедь католицизма воспринималась как попытка полонизации 18 .
Религиозная идентичность воспринималась в Российской империи как более значимая, чем идентичность этническая. Что же касается этнического самосознания, то существовало представление, что оно должно складываться из двух факторов: родного языка и вероисповедания. Такая связь этноса, языка и конфессии вела к тому, что белорусы-православные тяготели к русской культуре и за пределами своей этнической территории ассимилировались русскими, а белорусы-католики тяготели к польской культуре и ассимилировались поляками. Эта тенденция в определенной степени сохраняется до сих пор у белорусов диаспоры. В самой же Белоруссии в настоящее время, как показывают результаты социологических опросов, католицизм ассоциируется скорее с более широкой европейской ориентацией, а не с польской, как раньше 19 .
Характерной особенностью религиозного развития на постсоветском пространстве стало то, что традиционные конфессии воспринимаются не только как собственно религиозные (мировоззренческие) системы, но и как привычная культурная среда и национальный образ жизни 20 .
Из-за сильной связи религиозной идентичности с этнической восприятие других конфессий также происходит сквозь призму этничности. Этим объясняется, почему в современной России у Православной Церкви иногда легче налаживались отношения с так называемыми традиционными религиями России - исламом, иудаизмом, буддизмом (четко ассоциирующимися с определенными этносами), чем со многими из инославных христиан. В этом восприятии последователи «традиционных религий» - это «наши соседи», представители народов, традиционно живущих в стране, а инославные христиане - конкуренты, реально или потенциально претендующие на окормление тех, кто должен быть православной паствой. Римско-Католическая Церковь воспринималась в 1990-е годы именно как конкурент. Отношения между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью в России на рубеже XX и XXI веков были весьма напряженными, и одной из самых острых проблем стала проблема прозелитизма. В Белоруссии ситуация отличалась. Православие и католицизм воспринимались как две традиционные конфессии страны, и в проблеме прозелитизма они вместе противостояли нетрадиционной религиозности. Отношения между православной и католической церквами в Белоруссии были в тот период гораздо лучше, чем отношения между этими конфессиями в России. Автономный статус Белорусской Православной Церкви делал это возможным. Белорусская Православная Церковь нередко выступала представителем всех традиционных религий Белоруссии. Православная и католическая церкви в Белоруссии солидаризовались, например, при обсуждении религиозного законодательства страны.
Что касается проповеднической деятельности протестантских евангелических деноминаций в Белоруссии, то иногда с удивлением обращается внимание на то, что эта деятельность более активна в православной, а не в католической среде. Казалось бы, протестантам легче миссионерствовать среди католиков, которые, так же как и протестанты, относятся к западной ветви христианства. Но и для католиков, и в еще большей мере для протестантов, характерен упор на грань «религия как вера», т.е. на догматическую составляющую религии. Для православия же характерно сильное развитие идентификационной составляющей религии (при этом верующие могут слабо разбираться в учении). Это создает у протестантских миссионеров впечатление о православной культурной среде (в отличие от католической) как о свободной для миссионерской деятельности. По мнению протестантов, любой человек, являющийся лишь «номинальным» христианином (т.е. лишь идентифицирующим), даже если он был ранее крещен, может рассматриваться в качестве законного объекта евангелиза-ции в любом регионе мира независимо от того, действует ли там другая христианская церковь, и этот регион будет считаться «законным миссионерским полем» 21 . Это приводит к миссионерской активности на первом этапе, но впоследствии обычно не дает ожидаемых высоких результатов. В православных церквах сложилась особенно тесная связь с культурной идентичностью народа, и она зачастую выступает барьером для перехода в другую конфессию. В самом православном учении заложены идеи национальной (или иной коллективной) идентичности, которые народами впитывались на протяжении столетий 22 . Таким образом, этнизация религии (через связь религиозной и этнической идентичности) зачастую мешает обращениям в протестантизм. Поэтому вряд ли стоит опасаться сильной протестантизации белорусского населения и существенного нарушения веками сложившегося баланса между православием и католицизмом.
Ссылки:
14 Пучков П.И. Соотношение этнического и конфессионального вРоссии // Религиозная ситуация в ЮФО. Пути совершенствованиязаконодательства в области государственно-конфессиональных отношений(по материалам семинара 29 августа -1 сентября 2006 г.). Геленджик,2006. С. 29.
15 Подробнее об этом см.: Gunn Т.J. The Complexity ofReligion and the Definition of «Religion» in International Law //Harvard Human Rights Journal. 2003, spring. Vol. 16. P. 189-215.
16 Подробнее об этом см.: Казьмина О.Е. Интегрирующая идезинтегрирующая роль религии и этнические процессы в современнойРоссии //Ab Imperio. 2000. № 2. С. 229-245.
17 Бендин А.Ю. Веротерпимость и проблемы национальной политики
Российской империи (вторая половина XIX - начало XX века) // Церковно-
исторический вестник. 2004. № 11. С. 120.
18 Там же. С. 126.
19 Дракохруст Ю.А. Белоруссия - форпост «старой» Европы? // Россия
в глобальной политике. 2007. № 1 ( http://www.globalarTairs.ru/numbers/24/7054 .
html).
20 См., напр.: Мчедлов М.П. Взаимосвязь религиозного и национального //
Национальное и религиозное. М., 1996. С. 7; он же. О состоянии религиозности
в современной России // Там же. С. 24.
22 Prodromou E.H. Orthodox Christianity and Pluralism. Moving
Поделиться:







